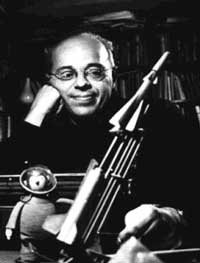|
|||||||||||||||
|
|
СТАНИСЛАВ ЛЕМВ автобиографическом эссе «Моя жизнь» СТАНИСЛАВ ЛЕМ размышлял:
«Чем было все то, в результате чего я появился на свет и, хотя смерть
угрожала мне множество раз, выжил и стал писателем, и к тому же писателем,
который пытается сочетать огонь и воду, фантастику и реализм? Неужели
всего лишь равнодействующей длинного ряда случайностей? Или же тут было
некое предопределение…» |
||||||||||||||
|
Мудрый пан Станислав, вероятнее всего, и сам не знает ответа на этот
вопрос; он считает себя рационалистом и не верит «ни в Провидение, ни
в предопределение». И все же, памятью возвращаясь в детство, он настойчиво
пытается нащупать прерывистую цепочку причин и следствий. Его отец был зажиточным врачом-ларингологом. Юного Станислава, пользовавшегося
привилегиями любимого чада, воспитывала французская гувернантка, он
имел множество игрушек, книг и сладостей (к последним, и вообще ко всякой
еде, он был особенно неравнодушен) — родители баловали его, и детство
Лема, «вне всякого сомнения, было мирным и идиллическим». Простительный грех чревоугодия привел к тому, что фигура довольно болезненного,
замкнутого и склонного к малоподвижному образу жизни ребенка «уже в
то время несколько напоминала грушу, хотя максимального сходства с ней,
— посмеиваясь, вспоминал Лем в романе «Высокий замок», — я достиг
позже, в гимназии. Лицо у меня было щекастое, глаза немного навыкате,
потому что я по природе был любопытен, ко всему прочему я частенько
раскрывал рот — кажется, считая, что это придает мне обаяние». Он рано научился читать и писать, но, не умея еще ни того, ни другого,
усердно «изучал» медицинские пособия и прочую научную литературу из
запретного книжного шкафа отца: «…моя судьба, то есть мое писательское
призвание, уже таилась во мне, когда я разглядывал скелеты, галактики
в астрономических атласах, реконструкции чудовищных ящеров мезозоя и
многоцветный человеческий мозг в анатомических справочниках». Помимо того что без конца читал, он также «занимался изобретательством
и «конструировал» допотопных животных, неизвестных палеонтологам», а
еще — выдумывал разные фантастические королевства: трудолюбиво рисовал
их гербы, изготовлял паспорта монархов, коих награждал пышными званиями
и титулами, выписывал особые «удостоверения» и чрезвычайные «пропуска»,
открывающие их предъявителю доступ в подземные сокровищницы». Позже
он признавался: «Хотя я знал, что это всего лишь игра, для меня с ней
было связано что-то очень серьезное». Уже после войны Лем случайно узнал, что был «чуть ли не самым способным
ребенком во всей южной Польше»: его коэффициент интеллекта равнялся
почти ста восьмидесяти. Но когда он поступал во Львовский медицинский
институт, то ни о чем подобном и не подозревал. Впрочем, завершить свое
образование в этом славном учебном заведении ему не удалось. Начались
тяжелые годы гитлеровской оккупации, когда будущему писателю приходилось
работать механиком, автослесарем, сварщиком и жить по фальшивым документам
— предки Лема были евреи, и его семье грозило переселение в гетто, если
не смерть в газовой камере. Станислав помогал, чем мог, польскому движению
Сопротивления — похищал боеприпасы со «склада трофеев германских военно-воздушных
сил». Риск был велик, но он считал это своим долгом. В 1948 году Лем окончил медицинский факультет Ягеллонского университета
в Кракове, после чего еще какое-то время работал по специальности в
Науковедческом семинаре М.Хойновского. Но его литературный дебют уже
состоялся: была опубликована научно-фантастическая повесть «Человек
с Марса» и несколько рассказов, а в столе у писателя лежал реалистический
роман «Больница Преображения» (первая часть трилогии «Неутраченное
время»), из-за цензуры увидевший свет лишь семь лет спустя. Вскоре появились первые научно-фантастические романы Лема — масштабные
коммунистические утопии «Астронавты» (1951) и «Магелланово
Облако» (1955). Сегодня писатель, по его же собственным словам,
отказывает им в какой-либо ценности и соглашается на переиздания с большой
неохотой, несмотря на то что они имели успех и сделали его имя широко
известным. После недавно закончившейся войны, самой страшной за всю
историю человечества, Лему так хотелось верить в лучшее будущее, что
он «дал увлечь себя оптимизму и надежде». «Научную фантастику, — полагает Лем, — я начал писать потому, что она
имеет или должна иметь дело с человеческим родом как таковым (и даже
с возможными видами разумных существ, одним из которых является человек),
а не с какими-то отдельными индивидами, все равно — святыми или чудовищами. Вероятно, по той же причине… я взбунтовался против канонов жанра в
том его виде, в каком он сформировался и окостенел в США». И новые книги
Лема («Звездные дневники Ийона Тихого», сборник «Вторжение
с Альдебарана», романы «Эдем», «Солярис», «Возвращение
со звезд», «Непобедимый»), выплеснутые буквально за несколько
лет и признанные теперь современной классикой, стали для него попыткой
вырваться в «совершенно иное пространство возможностей». Среди них попадались
просто удивительные, такие как «Солярис», что и по сей день остается
неразрешимой загадкой. Сильнейшее впечатление на читателей этого романа
произвел многозначный образ бесконечного, покрывающего всю планету и
наделенного разумом Океана, с которым герои Лема безуспешно пытаются
найти общий язык. «Мне хотелось бы написать что-нибудь вроде «Солярис»,
— признавался фантаст, — но такая удача бывает только раз». Самого Станислава Лема тоже иногда сравнивают с Океаном — столь
глубоки, порой пугающе бездонны его книги, которые, кажется, сколько
ни перечитывай, все равно не поймешь до конца; с океаном, заполненным
не водой, но некой сильно концентрированной субстанцией, весьма благотворно
действующей на человеческий организм, в особенности, на таинственное
серое вещество, заключенное у нас в черепной коробке. Выйдя в Космос и вступив в Контакт с иным разумом, человечество, по
мнению Лема, окажется перед «зеркалом», в котором сможет увидеть самого
себя и благодаря которому осознает степень собственной зрелости. Но,
предупреждает он, «среди звезд нас ждет Неизвестное», и как поведут
себя люди, лицом к лицу столкнувшиеся с Неизвестным, пытается представить
в своих книгах. Порой он вспоминает Луи Пастера, который любил повторять,
что «каждое научное достижение чуточку отдаляет нас от Бога, но еще
больше приближает к нему». «Я — агностик, — говорит Лем, — исповедую
эмпирический взгляд на вещи и довольно далек от теологии. Но в то же
время я совсем не убежден, что человек должен понять все». Парадокс: почему-то считается, что Лем пишет лишь для высокообразованного,
интеллигентного, эрудированного читателя, однако в числе его поклонников
очень разные люди — «от школьников до нобелевских лауреатов». Быть может,
его книги необходимо принимать как лекарство, оздоровляющее и активизирующее
мыслительную деятельность?.. «Часто, — рассказывал Лем, — откладывая уже законченную книгу, я убеждаюсь,
что она умнее меня самого. Ведь мои мысли в жизни растяжимы во времени,
тогда как в книге они собраны вместе, как в фокусе». Справедливо замечено: «в литературном творчестве Лема впечатляет не
столько количество написанных им книг, сколько их многообразие» (Э.Араб-Оглы).
И в самом деле, что, кроме имени автора, может объединять остроумнейшие
рассказы о похождениях «космического Мюнхгаузена» Ийона Тихого
и трагическую «средневековую» повесть «Маска», абсурдистскую
фантазию «Рукопись, найденная в ванне» и научные детективы «Расследование»
и «Насморк», приключенческий цикл о пилоте Пирксе и сборники рецензий
на ненаписанные книги «Абсолютная пустота» и «Мнимая величина»,
философский трактат «Сумма технологии» и «Кибериаду» или
«Сказки роботов», место которых «на карте литературных жанров
— в провинциях гротеска, сатиры, иронии, юмористики свифтовского и вольтеровского
образца — суховатой, язвительной и мизантропической». Злые языки поговаривают, что писатель Станислав Лем «не более как кибернетическое
устройство, специально запрограммированное для изготовления научно-фантастических
произведений и для отвода глаз спрятанное в небольшой человекоподобный
футляр». Но разве способно было кибернетическое устройство, пусть даже
самое совершенное, предвидеть нынешние успехи в генной инженерии, компьютерную
виртуальную реальность (у Лема — фантоматику), попытку создания «лазерного
щита» и программу «звездных войн», а также неизбежный крах всей коммунистической
системы? Последнее предсказание, отнесенное, правда, к 2020 году, вынудило
писателя на целых восемь лет уехать из Кракова в Западный Берлин, а
затем в Вену, поскольку сделано оно было в начале 1980-х годов, как
раз когда в Польше ввели военное положение. В одной давней своей заметке («O sobie») Лем обронил: «Мир нужно изменять,
иначе он неконтролируемым образом начнет изменять нас самих». Сегодня,
вступая в XXI век и критически оценивая прожитые годы, самым главным
в своей биографии писатель считает нелегкий духовный труд, направленный
на изменение и улучшение нашего мира: «Говоря коротко, я разочарованный
усовершенствователь мира… но все же не отчаявшийся окончательно… Ибо
я не оцениваю человечество как «совершенно безнадежный и неизлечимый
случай». Алексей Копейкин
ВЗЯТО С САЙТА БИБЛИОГИД В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||